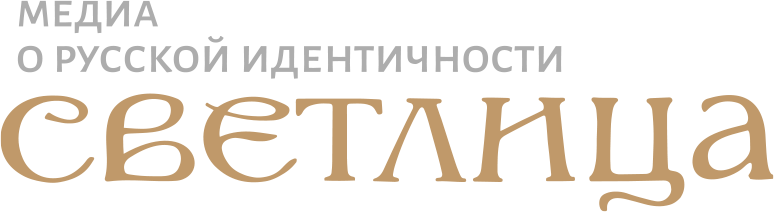- Светлана МацинаАвтор
Ферапонтово: как забытый монастырь спас школу русской монументальной живописи
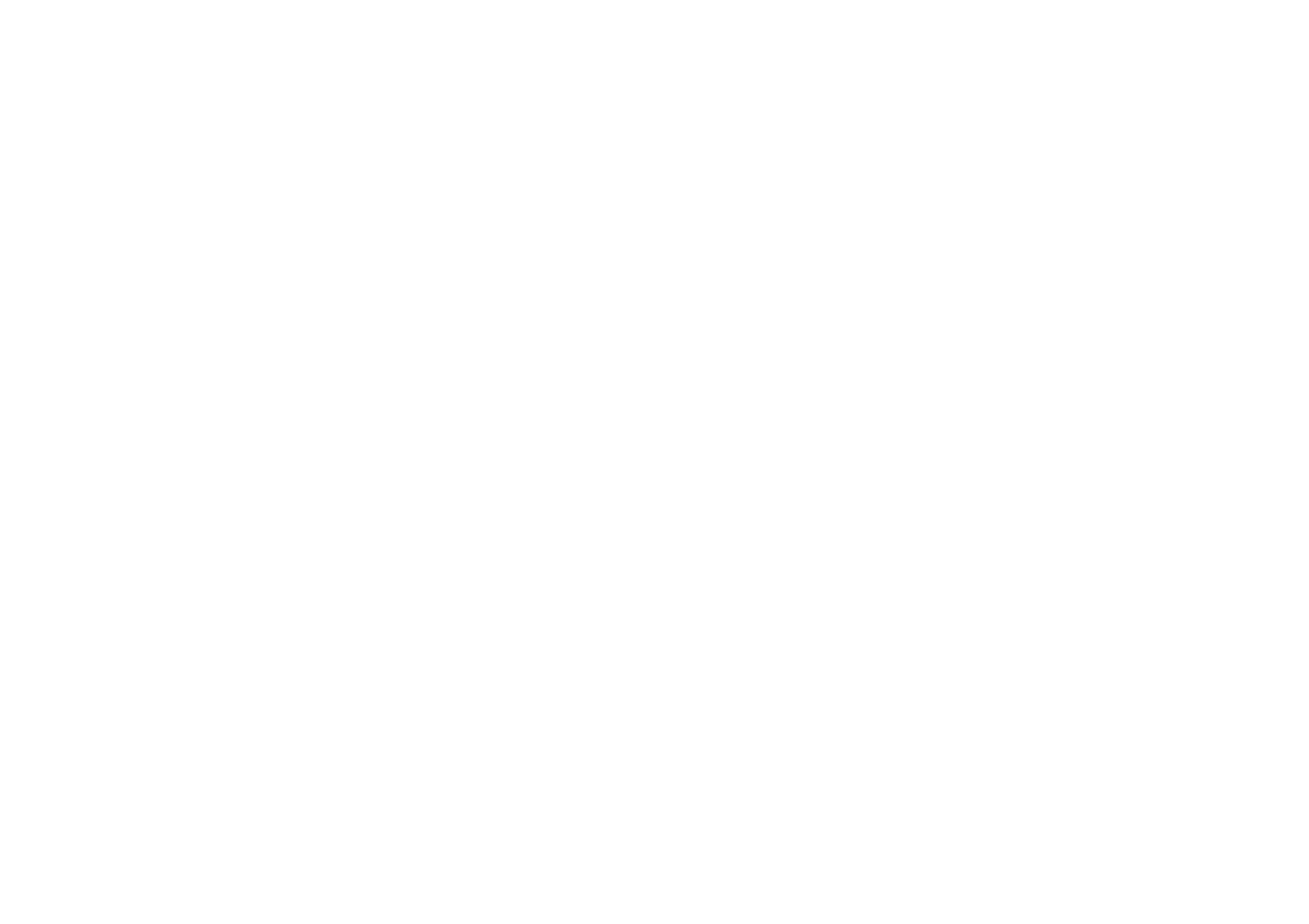
Во второй половине XX века в советской художественной образовательной системе возникла необходимость возрождения традиций монументального искусства. Особую роль в этом процессе сыграло создание специализированной кафедры в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В. И. Мухиной (ныне - Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица). Это было связано с несколькими ключевыми факторами: идеологическим запросом государства на создание масштабных художественных проектов, потребностью в сохранении национального культурного наследия и необходимостью подготовки художников-монументалистов, способных работать в новых социально-политических условиях.
После революции 1917 года и в первые десятилетия советской власти монументальное искусство стало важным инструментом пропаганды, прославляющим идеалы социализма. Однако к середине XX века стало очевидно, что для создания подлинно великих произведений, отвечающих не только идеологическим, но и эстетическим запросам, необходимо глубокое изучение исторических традиций. Особое внимание уделялось древнерусскому искусству: фрескам, иконописи, мозаике, которые рассматривались как основа национальной художественной школы.
Формирование кафедры монументального искусства столкнулось с рядом трудностей. Во-первых, в послевоенные годы ощущался дефицит специалистов, способных передать технические и стилистические особенности древнерусской живописи. Во-вторых, существовало противоречие между официальным курсом на «социалистический реализм» и стремлением художников к свободе творческого выражения. Тем не менее, благодаря усилиям педагогов и исследователей, удалось создать программу, сочетающую академические основы с изучением средневековых техник.
Главной катастрофой страны и в частности культурного наследия СССР стала Великая Отечественная война. Разрушение Великого Новгорода - древнего центра русской истории и искусства- одна из самых тяжелых потерь. В годы оккупации были уничтожены или серьезно повреждены десятки памятников архитектуры, фрески XII-XV вв.еков, иконы и уникальные образцы монументальной живописи. Особенно трагичной стала утрата росписей Софийского собора и церкви Спаса на Нередице, взорванной немецкими войсками.
После революции 1917 года и в первые десятилетия советской власти монументальное искусство стало важным инструментом пропаганды, прославляющим идеалы социализма. Однако к середине XX века стало очевидно, что для создания подлинно великих произведений, отвечающих не только идеологическим, но и эстетическим запросам, необходимо глубокое изучение исторических традиций. Особое внимание уделялось древнерусскому искусству: фрескам, иконописи, мозаике, которые рассматривались как основа национальной художественной школы.
Формирование кафедры монументального искусства столкнулось с рядом трудностей. Во-первых, в послевоенные годы ощущался дефицит специалистов, способных передать технические и стилистические особенности древнерусской живописи. Во-вторых, существовало противоречие между официальным курсом на «социалистический реализм» и стремлением художников к свободе творческого выражения. Тем не менее, благодаря усилиям педагогов и исследователей, удалось создать программу, сочетающую академические основы с изучением средневековых техник.
Главной катастрофой страны и в частности культурного наследия СССР стала Великая Отечественная война. Разрушение Великого Новгорода - древнего центра русской истории и искусства- одна из самых тяжелых потерь. В годы оккупации были уничтожены или серьезно повреждены десятки памятников архитектуры, фрески XII-XV вв.еков, иконы и уникальные образцы монументальной живописи. Особенно трагичной стала утрата росписей Софийского собора и церкви Спаса на Нередице, взорванной немецкими войсками.
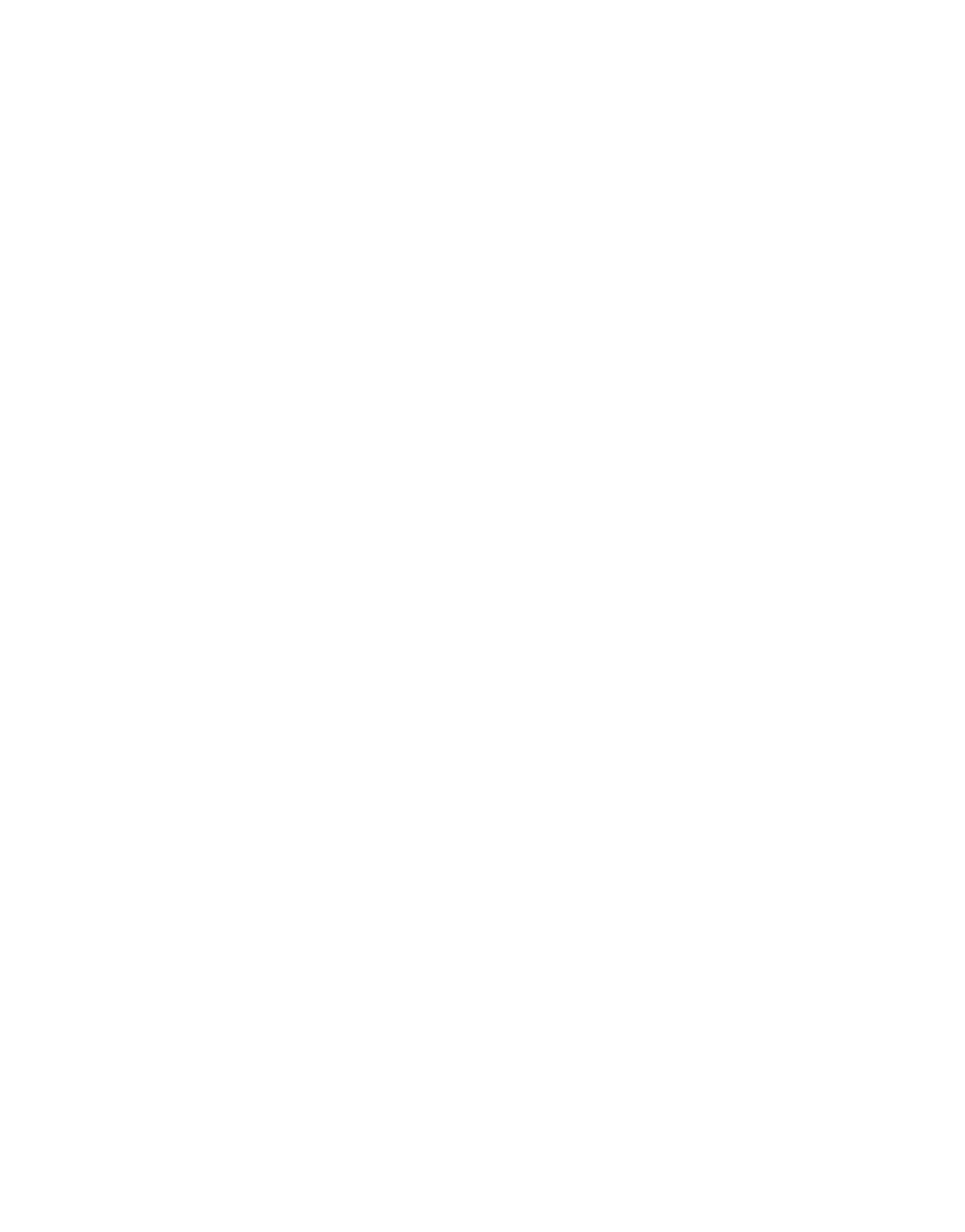
Роспись алтарной части церкви Спаса на Нередице. Фото 1930-х гг.
Эти потери не только лишили страну бесценных шедевров, но и поставили перед искусствоведами и реставраторами сложнейшую задачу- восстановить утраченные технологии и стилистические традиции древнерусского искусства. В этих условиях внимание специалистов закономерно обратилось к Ферапонтову монастырю. Расположенный в глухих вологодских лесах, вдали от крупных городов и оживленных дорог, монастырь избежал многих разрушительных процессов, которые пережили другие центры древнерусской культуры. Его географическая изоляция сыграла ключевую роль в сохранении уникальных фресок Дионисия- в отличие от Новгорода, Пскова или Москвы, монастырь не подвергался масштабным перестройкам, не был разорен в Смутное время и, что особенно важно, уцелел в годы Великой Отечественной войны. В то время как древние храмы в оккупированных городах гибли под бомбежками и преднамеренными взрывами, Ферапонтов монастырь оставался нетронутым, сохранив не только стены, но и бесценные рукописи начала XVI века.
Эта удаленность спасла памятник не только от военных разрушений, но и от более ранних угроз: здесь почти не велось «поновление» икон и фресок в XVIII-XIX вв.еках, а советская антирелигиозная кампания затронула монастырь меньше, чем знаменитые центры паломничества. В результате фрески Дионисия дошли до наших дней в почти первозданном виде, став эталоном древнерусской монументальной живописи. Именно их сохранность позволила искусствоведам и реставраторам послевоенного времени детально изучить технику средневековых мастеров, что было особенно важно на фоне утрат в Новгороде и других городах. Таким образом, «забытость» Ферапонтова монастыря, некогда казавшаяся его недостатком, обернулась спасением - для России и всего мира.
Таким образом, создание кафедры монументального искусства в Академии Штиглица стало важным этапом в сохранении национального наследия и формировании новой художественной школы, сочетающей традиции прошлого с актуальными задачами советского искусства.
С 50-х годов студенты кафедры монументально-декоративной живописи (МДЖ) ежегодно проходят практику в Ферапонтовом монастыре. Выезды в этот отдаленный уголок Вологодской области позволяют будущим мастерам напрямую соприкоснуться с наследием Дионисия - величайшего мастера древнерусской фрески.
Эта удаленность спасла памятник не только от военных разрушений, но и от более ранних угроз: здесь почти не велось «поновление» икон и фресок в XVIII-XIX вв.еках, а советская антирелигиозная кампания затронула монастырь меньше, чем знаменитые центры паломничества. В результате фрески Дионисия дошли до наших дней в почти первозданном виде, став эталоном древнерусской монументальной живописи. Именно их сохранность позволила искусствоведам и реставраторам послевоенного времени детально изучить технику средневековых мастеров, что было особенно важно на фоне утрат в Новгороде и других городах. Таким образом, «забытость» Ферапонтова монастыря, некогда казавшаяся его недостатком, обернулась спасением - для России и всего мира.
Таким образом, создание кафедры монументального искусства в Академии Штиглица стало важным этапом в сохранении национального наследия и формировании новой художественной школы, сочетающей традиции прошлого с актуальными задачами советского искусства.
С 50-х годов студенты кафедры монументально-декоративной живописи (МДЖ) ежегодно проходят практику в Ферапонтовом монастыре. Выезды в этот отдаленный уголок Вологодской области позволяют будущим мастерам напрямую соприкоснуться с наследием Дионисия - величайшего мастера древнерусской фрески.
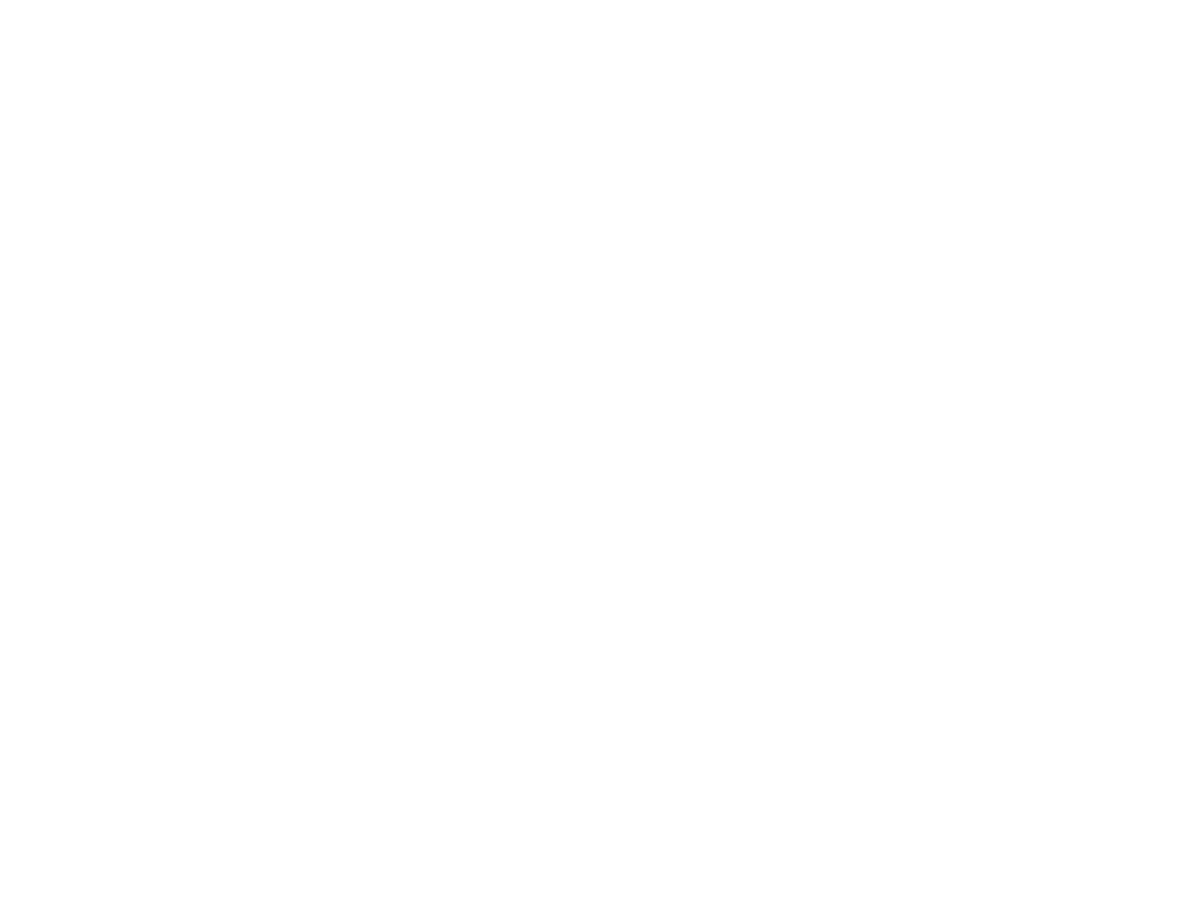
Архивное фото, 1979 г. Момент реставрации колокольни
Нашей команде посчастливилось попасть в саму Академию и пообщаться с преподавателями и студентами кафедры МДЖ, где каждый поделился своим опытом работы в монастыре.
Первый, с кем нам удалось пообщаться был доцент кафедры Васильев Александр Вениаминович (член Секции монументального искусства Санкт-Петербургского Союза художников, Член Международной ассоциации современной мозаики A.I.M.C. Ravenna Italy).Проучившись 5 курсов на самой «мужицкой» кафедре художественной обработки металла, он не смог отказаться от своей заветной мечты- монументального искусства и в свободное от учебы время приходил к товарищам на кафедру МДЖ и практиковался вместе с ними. Пришлось пройти много бюрократических преград, чтобы спустя 5 лет «попасть домой», снова стать студентом второго курса и пройти заново свой путь художника.
Свой опыт практики в Ферапонтовом монастыре Александр Вениаминович вспоминает так:
«В этой цепочке прикосновения к древнерусскому искусству начальной стадией копии иконы стала практика в Пскове. Первая икона была написана акварелью абсолютно бездумно. Мы были крещеные, но отучены от веры и церкви воспитывались по другому. И вот ты стоишь перед иконой, чувствуешь что это очень хорошо, а почему не понимаешь. Просто мы с этим не были знакомы. На третьем курсе нас отвезли в Ферапонтово. Ни с чем подобным мы тогда не встречались. Не было ни выездов, ни знакомства с западным искусством, ни книг, ни качественных иллюстраций. С нынешними студентами, у которых все есть перед глазами даже сравнивать не стоит.
И так мы начали работать. После окончания учебной практики я понял, что мне этого мало. Попросился остаться еще на какое-то время в монастыре. Из-за начала туристического сезона из самого собора меня отправили писать на улице. Так и бегал туда-сюда, подбирая колер. И это стало первым осознанным опытом работы с иконой и настоящей любовью».
Первый, с кем нам удалось пообщаться был доцент кафедры Васильев Александр Вениаминович (член Секции монументального искусства Санкт-Петербургского Союза художников, Член Международной ассоциации современной мозаики A.I.M.C. Ravenna Italy).Проучившись 5 курсов на самой «мужицкой» кафедре художественной обработки металла, он не смог отказаться от своей заветной мечты- монументального искусства и в свободное от учебы время приходил к товарищам на кафедру МДЖ и практиковался вместе с ними. Пришлось пройти много бюрократических преград, чтобы спустя 5 лет «попасть домой», снова стать студентом второго курса и пройти заново свой путь художника.
Свой опыт практики в Ферапонтовом монастыре Александр Вениаминович вспоминает так:
«В этой цепочке прикосновения к древнерусскому искусству начальной стадией копии иконы стала практика в Пскове. Первая икона была написана акварелью абсолютно бездумно. Мы были крещеные, но отучены от веры и церкви воспитывались по другому. И вот ты стоишь перед иконой, чувствуешь что это очень хорошо, а почему не понимаешь. Просто мы с этим не были знакомы. На третьем курсе нас отвезли в Ферапонтово. Ни с чем подобным мы тогда не встречались. Не было ни выездов, ни знакомства с западным искусством, ни книг, ни качественных иллюстраций. С нынешними студентами, у которых все есть перед глазами даже сравнивать не стоит.
И так мы начали работать. После окончания учебной практики я понял, что мне этого мало. Попросился остаться еще на какое-то время в монастыре. Из-за начала туристического сезона из самого собора меня отправили писать на улице. Так и бегал туда-сюда, подбирая колер. И это стало первым осознанным опытом работы с иконой и настоящей любовью».
Работы, выполненные Васильевым А.В.
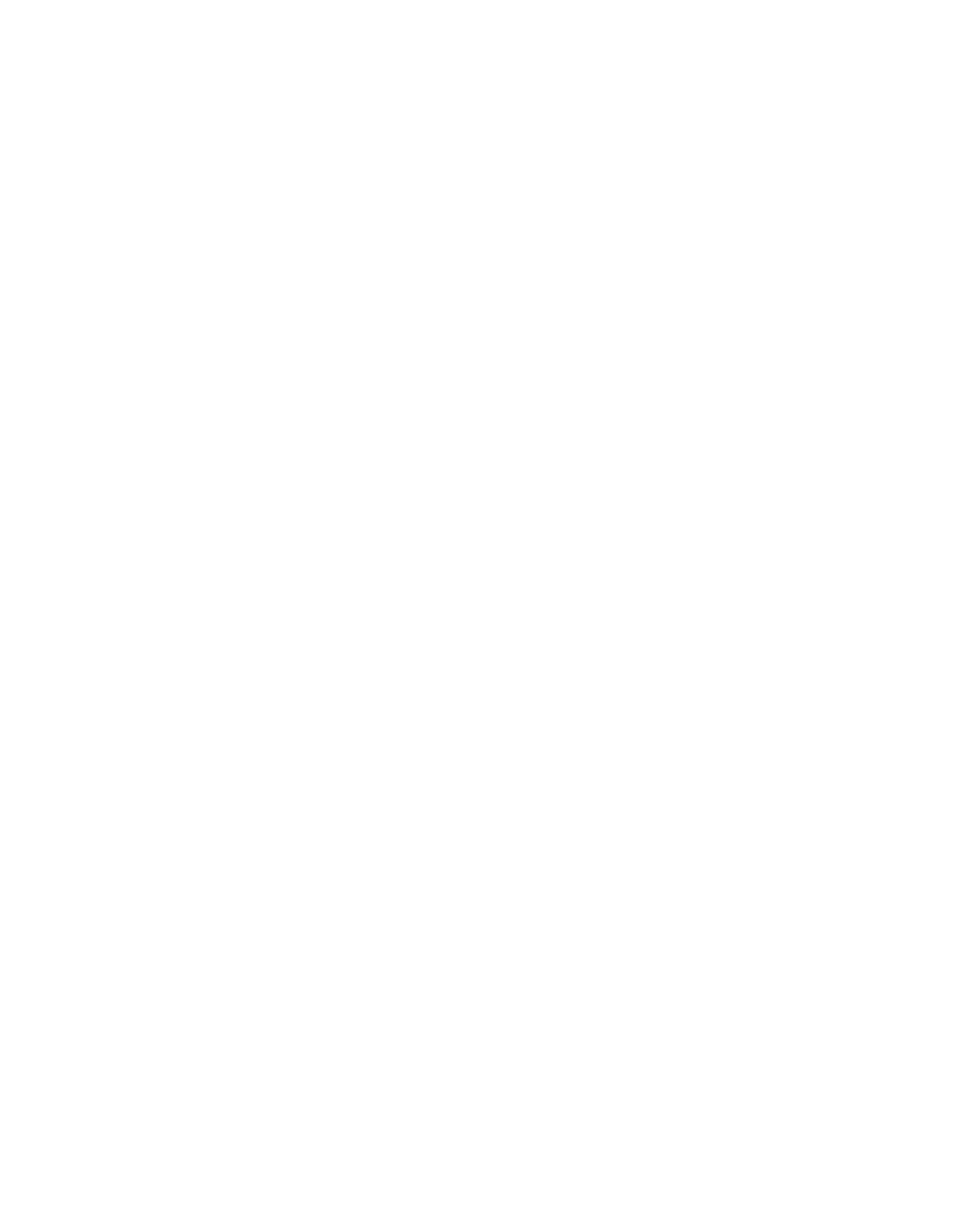
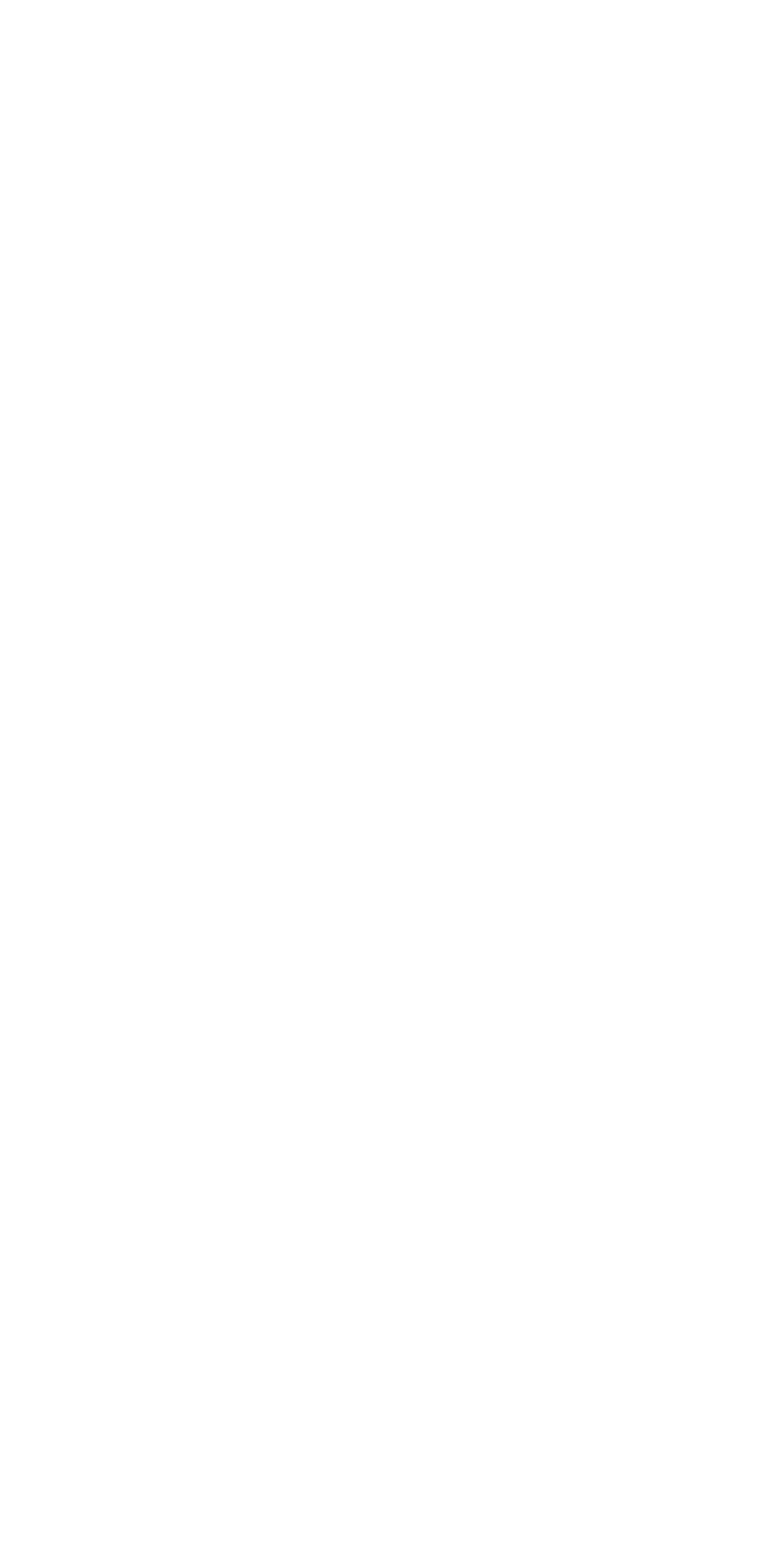
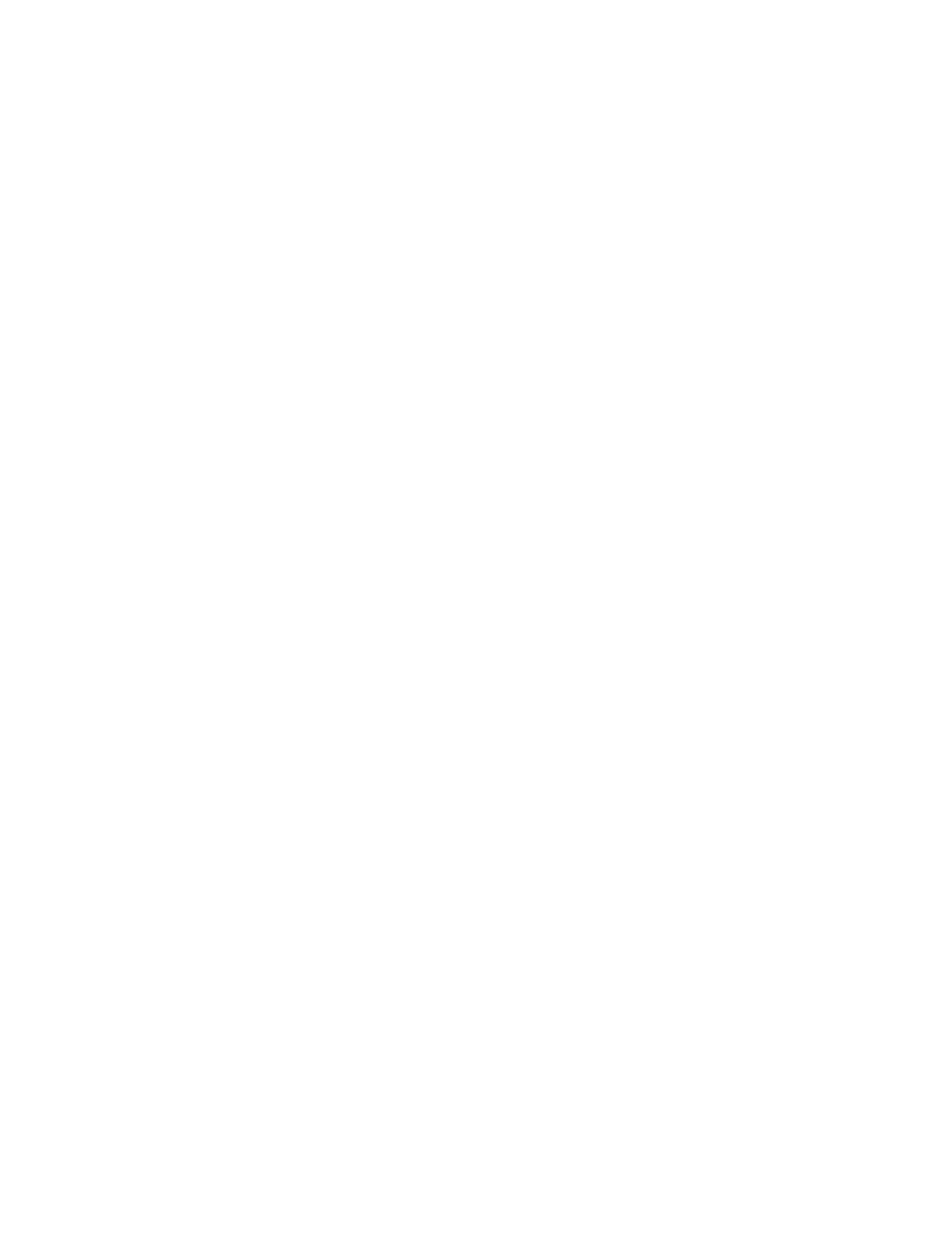
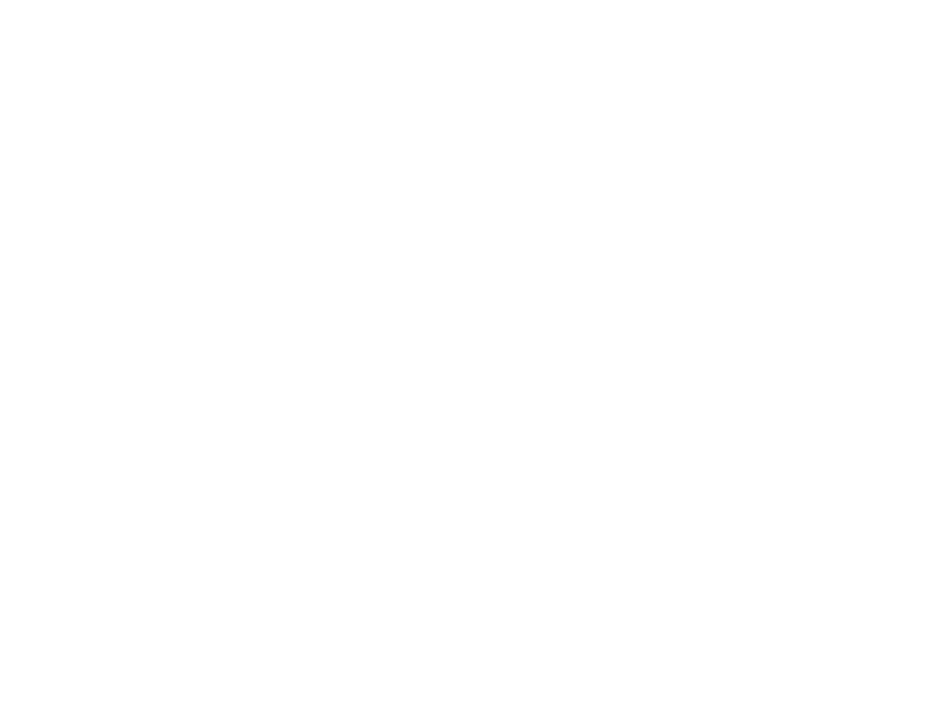
Роспись Алтарной части церкви Успения Богородицы
Второй рассказ, который нас ждал, был от двух студенток пятого курса Валерии Поповой и Александры Вороновой:
«В Ферапонтово мы уезжаем на три недели. Раньше студенты жили где придется, иногда даже в сарае приходилось ночевать. Но сейчас нам выделяют домик и мы всей группой там живем. Все материалы мы заготавливаем дома, чтобы потом на это не тратить время. На месте готовим только колер, который раз состоит из перетертого пигмента и связующего вещества из пива или вина и яйца. На кафедре нас учат делать мозаики, фрески по старинным технологиям. Колера для фресок мы мешали самостоятельно на яйце и вине, все пигменты натуральные. Нас учат истокам и это самое интересное. Например для иконы используется только белок, а для фрески и белок и желток, потому что белок со временем высветляется. Самое сложное это попасть с цветом. Внутри мешать краски нельзя, поэтому приходится с маленькими выкрасками постоянно бегать внутрь монастыря, сравнивать. А за день свет меняется, все смотрится по другому. Также можно заметить, что в определенной местности колорит мастера совпадает с местностью. Ты смотришь на фреску, смотришь на пейзаж вокруг и понимаешь что это ОНО. Так что работа очень трудоемкая, но с точки зрения погружения в историю, фреску и икону это прекрасная практика. Не могли отказывать себе и в отдыхе. Мы купались в озере, ходили в баню, разжигали вечерний костер, пели под гитару. Потом уже возвращались туда зимой самостоятельно, это место затягивает».
«В Ферапонтово мы уезжаем на три недели. Раньше студенты жили где придется, иногда даже в сарае приходилось ночевать. Но сейчас нам выделяют домик и мы всей группой там живем. Все материалы мы заготавливаем дома, чтобы потом на это не тратить время. На месте готовим только колер, который раз состоит из перетертого пигмента и связующего вещества из пива или вина и яйца. На кафедре нас учат делать мозаики, фрески по старинным технологиям. Колера для фресок мы мешали самостоятельно на яйце и вине, все пигменты натуральные. Нас учат истокам и это самое интересное. Например для иконы используется только белок, а для фрески и белок и желток, потому что белок со временем высветляется. Самое сложное это попасть с цветом. Внутри мешать краски нельзя, поэтому приходится с маленькими выкрасками постоянно бегать внутрь монастыря, сравнивать. А за день свет меняется, все смотрится по другому. Также можно заметить, что в определенной местности колорит мастера совпадает с местностью. Ты смотришь на фреску, смотришь на пейзаж вокруг и понимаешь что это ОНО. Так что работа очень трудоемкая, но с точки зрения погружения в историю, фреску и икону это прекрасная практика. Не могли отказывать себе и в отдыхе. Мы купались в озере, ходили в баню, разжигали вечерний костер, пели под гитару. Потом уже возвращались туда зимой самостоятельно, это место затягивает».
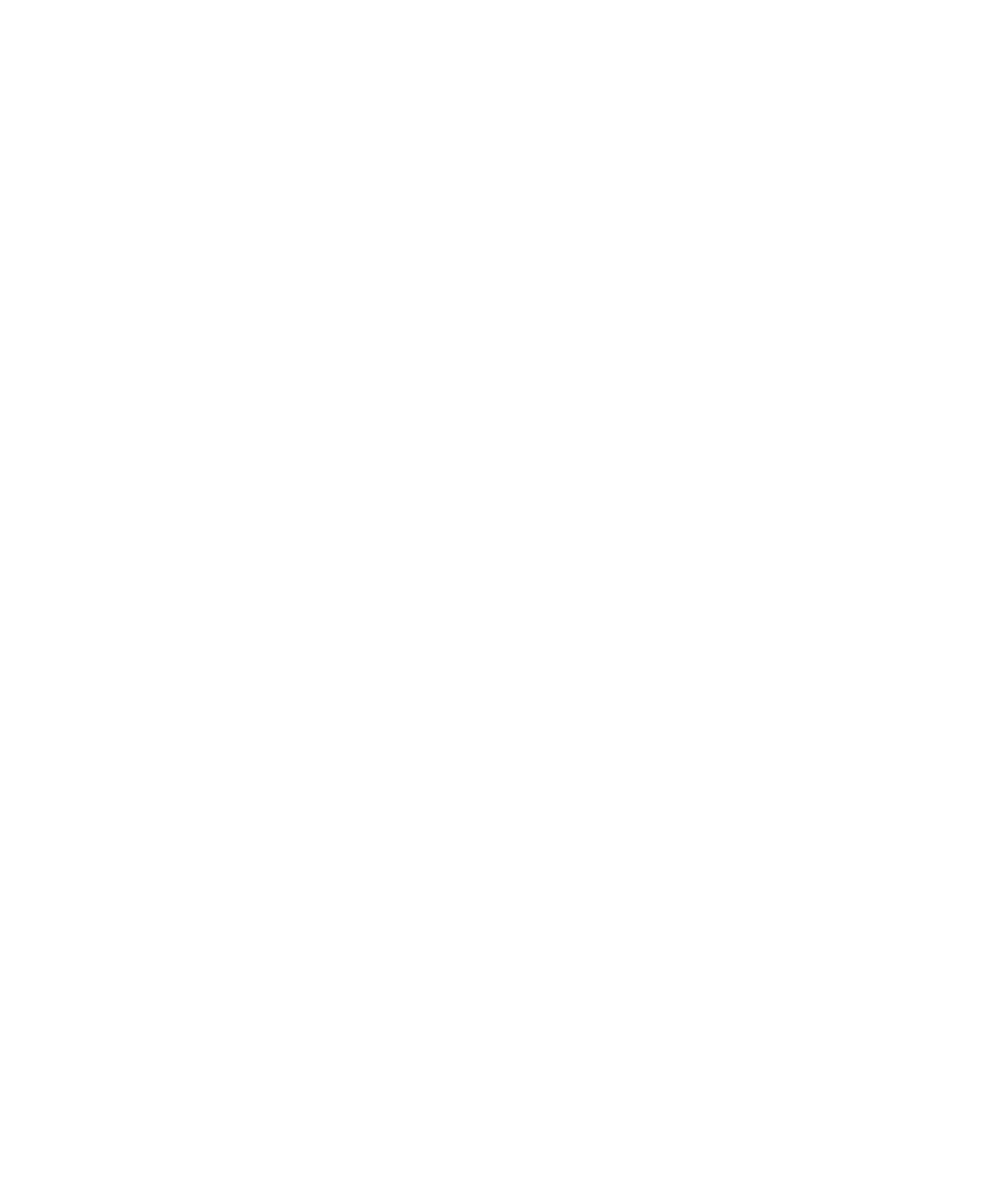
Студенты кафедры МДЖ Акамедии им. А.Л. Штиглица на практике в монастыре
Времена и поколения меняются, а копирование росписей Собора Рождества Богородицы все еще требует от студентов не только технического мастерства, но и глубокого понимания средневековой традиции. Работая в холодном, наполненном особым светом храме, они осваиваются секреты построения композиции, тончайшие нюансы колорита, принципы работы с ограниченной палитрой натуральных пигментов. Эта практика — не просто дань традиции, а живой диалог с прошлым, необходимый для развития современного монументального искусства.
Заполните анкету
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ СВЕТЛИЦА (SVETLICA)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЭЛ № ФС77-85755
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР) 22.08.2023 0+
ЛЮБОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ САЙТА БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ
МЕНЮ